Book design is the art of incorporating the content, style, format, design, and sequence of the various components of a book into a coherent whole. In the words of Jan Tschichold, "Methods and rules that cannot be improved upon have been developed over centuries. To produce perfect books, these rules must be revived and applied." The front matter, or preliminaries, is the first section of a book and typically has the fewest pages. While all pages are counted, page numbers are generally not printed, whether the pages are blank or contain content.
ЖИЗНЬ
13 ноября — день рождения Роберта Луиса Стивенсона, превосходного поэта и классика британской и мировой приключенческой литературы. Именно — литературы, а не развлекательного чтива, на необозримых полянах которого и резвятся по большей части беллетристы-«приключенцы», как иронически прозывали их советские литературные критики. Таковым несть числа и имя им — легион, писателей же, тем более хороших писателей немного. Стивенсон — один из самых лучших, имя его обычно называется сразу вслед за именем Александра Дюма, мушекетерская трилогия которого для британского классика была настольной.
В отличие от Дюма, чье имя — скорее название литературного концерна, нежели имя собственное, Стивенсон в основном писал сам. Прежде чем рассуждать о том, каким он писателем, скажем все-таки хотя бы несколько слов о том, каким он был человеком.
Автор лучшей биографии Стивенсона, замечательный британский писатель Ричард Олдингтон, озаглавил ее «Портрет бунтаря» - и это абсолютно точно.
Всю свою недолгую жизнь Роберт Луис бунтовал: против религии, в которой воспитывался, против семьи, желавшей видеть его продолжателем дела деда и отца, а именно инженером и строителем маяков, против замшелых провинциальных нравов, не считавших литературу серьезным и достойным порядочного человека занятием, против викторианских литературных правил, против норм викторианской морали, не желавшей считаться с тем, что любовь важнее правил общественного приличия, не признающего возможным брак юного шотландца и старшей его на десять лет замужней американки с тремя детьми, наконец, против тяжелой болезни, резко ограничившей физические возможности Стивенсона с ранней юности до конца жизни.
Биография этого человека - действительно, биография бунтаря, но в еще большей мере - биография борца за собственное «Я» в жизни, любви, искусстве, судьбе. И этот болезненный, хрупкий, нескладный, некрасивый провинциал из дикой горной страны победил предначертанную ему судьбу во всех схватках, даже и в самой последней, казалось бы, заранее обреченной на проигрыш, схватке - со смертью.
Всю свою недолгую жизнь Роберт Луис бунтовал: против религии, в которой воспитывался, против семьи, желавшей видеть его продолжателем дела деда и отца, а именно инженером и строителем маяков, против замшелых провинциальных нравов, не считавших литературу серьезным и достойным порядочного человека занятием, против викторианских литературных правил, против норм викторианской морали, не желавшей считаться с тем, что любовь важнее правил общественного приличия, не признающего возможным брак юного шотландца и старшей его на десять лет замужней американки с тремя детьми, наконец, против тяжелой болезни, резко ограничившей физические возможности Стивенсона с ранней юности до конца жизни.
Биография этого человека - действительно, биография бунтаря, но в еще большей мере - биография борца за собственное «Я» в жизни, любви, искусстве, судьбе. И этот болезненный, хрупкий, нескладный, некрасивый провинциал из дикой горной страны победил предначертанную ему судьбу во всех схватках, даже и в самой последней, казалось бы, заранее обреченной на проигрыш, схватке - со смертью.
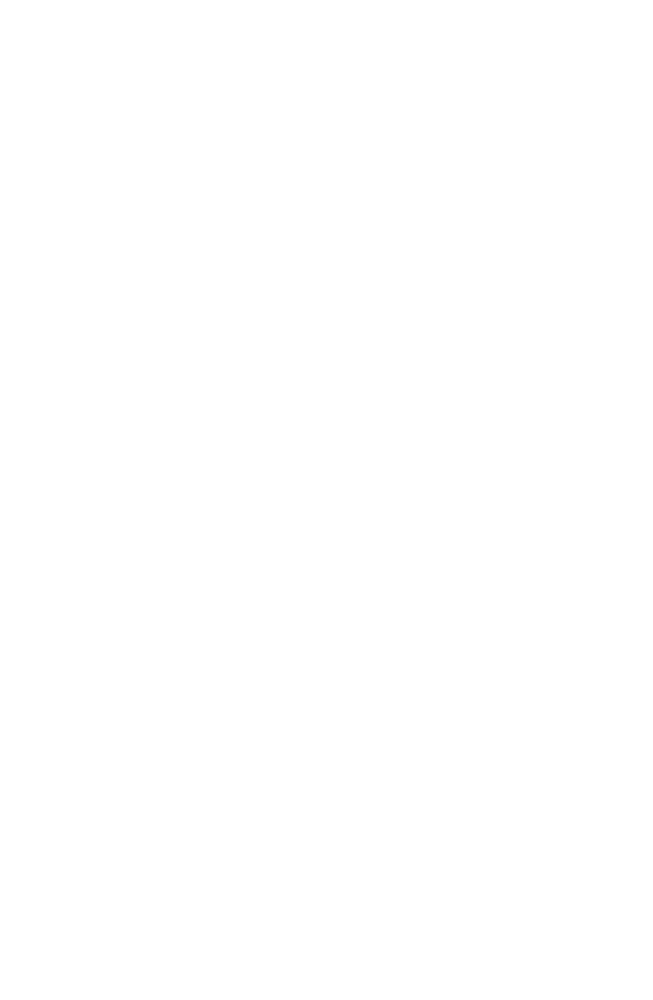
Мгновенно убитый инсультом прямо за обеденным столом в кругу семьи, 44-летний писатель продолжает жить и сегодня, 128 лет спустя. Его лучшие романы, повести и рассказы бесконечно переиздаются на всех основных языках, вновь и вновь к ним обращаются кинематограф и телевидение. Так, только в нашей стране «Остров сокровищ» имеет несколько экранных версий, лучшая из которых, весьма вольная, была снята еще в 1937 году. Откройте «Википедию» - список экранизаций книг Стивенсона отчетливо впечатляющ!
Желающие подробно познакомиться с биографией болезненного человека, несгибаемого борца и упрямца, непременно должны прочитать книгу Ричарда Олдингтона, выходившую на русском языке в популярной серии «Жизнь замечательных людей», а также послесловие к ней, написанное одним из лучших специалистов по британской литературе XIX века Дмитрием Урновым. Он же подготовил и лучшее русскоязычное издание сочинений Стивенсона в пяти томах, к которому написал глубокое предисловие.
Желающие подробно познакомиться с биографией болезненного человека, несгибаемого борца и упрямца, непременно должны прочитать книгу Ричарда Олдингтона, выходившую на русском языке в популярной серии «Жизнь замечательных людей», а также послесловие к ней, написанное одним из лучших специалистов по британской литературе XIX века Дмитрием Урновым. Он же подготовил и лучшее русскоязычное издание сочинений Стивенсона в пяти томах, к которому написал глубокое предисловие.
ОСТРОВ СОКРОВИЩ
Центральным произведением классика считается повесть «Остров сокровищ». Это именно повесть, а не роман, хотя нередко ее называют именно романом. Почему я так считаю? Потому, что до масштаба романа «Остров сокровищ»
не дотягивает ни по объему, ни по относительно небольшому количеству персонажей (хотя и отлично прописанных), ни по причине полного отсутствия в романтической книжке любовной линии, где она, вообще-то, обязательна (более того, здесь и вовсе нет женских персонажей, за исключением матери главного героя, появляющейся лишь в начальных главах повести), ни даже по самой авторской задумке, ведь Стивенсон писал книжку для своего малолетнего пасынка, да еще при некотором участии старика-отца, человека глубоко религиозного и нетерпимого к разного рода богемным вольностям.
не дотягивает ни по объему, ни по относительно небольшому количеству персонажей (хотя и отлично прописанных), ни по причине полного отсутствия в романтической книжке любовной линии, где она, вообще-то, обязательна (более того, здесь и вовсе нет женских персонажей, за исключением матери главного героя, появляющейся лишь в начальных главах повести), ни даже по самой авторской задумке, ведь Стивенсон писал книжку для своего малолетнего пасынка, да еще при некотором участии старика-отца, человека глубоко религиозного и нетерпимого к разного рода богемным вольностям.
Тем не менее, повесть эта принесла молодому писателю первый большой успех и немалый гонорар, что для Стивенсона, взвалившего на свои плечи заботу о жене и пасынке, было немаловажно.
О чем она? Да кто ж не знает-то… О пиратах и сокровищах, о чести и мужестве, о трудном детстве, о морях и океанах, островах и кораблях, о добре и зле, которое гораздо интереснее добра, потому что… А правда, почему? Почему отрицательные персонажи романов ли, фильмов ли, как правило, интереснее, ярче совсем уж положительных, хотя именно положительным мы сочувствуем и желаем победить? Почему Боромир из «Властелина Колец» как персонаж ярче, нежели Арагорн или тем более Фродо? Почему романный Ришельё вызывает уважение, зачастую перевешивающее нашу любовь к д’Артаньяну? Почему Джон Сильвер вызывает сочувствие, несмотря на все свое коварство, в то время, как успеха мы желаем, конечно, Джиму Хокинсу?
Может быть, потому, что зло, совершаемое и Боромиром, и Ришельё, и Сильвером отнюдь не абсолютно, а в большей мере вынужденно, и зачастую оборачивается или могло бы обернуться добром? Может быть, потому что они вовсе не лишены добра напрочь, а лишь прячут его под личиной зла? А может, и потому что зло и добро в полном равновесии держат само бытие, находясь на его противоположных сторонах?
Вряд ли ответ на этот, вполне философский и, как всё в философии, неразрешимый вопрос, может быть однозначным и окончательным. И большая настоящая литература, понимая невозможность его разрешения, лишь вновь и вновь ставит его во главу угла, тем, собственно, и отличаясь от чисто развлекательной беллетристики, где враги - это непременно безликие мерзавцы.
О чем она? Да кто ж не знает-то… О пиратах и сокровищах, о чести и мужестве, о трудном детстве, о морях и океанах, островах и кораблях, о добре и зле, которое гораздо интереснее добра, потому что… А правда, почему? Почему отрицательные персонажи романов ли, фильмов ли, как правило, интереснее, ярче совсем уж положительных, хотя именно положительным мы сочувствуем и желаем победить? Почему Боромир из «Властелина Колец» как персонаж ярче, нежели Арагорн или тем более Фродо? Почему романный Ришельё вызывает уважение, зачастую перевешивающее нашу любовь к д’Артаньяну? Почему Джон Сильвер вызывает сочувствие, несмотря на все свое коварство, в то время, как успеха мы желаем, конечно, Джиму Хокинсу?
Может быть, потому, что зло, совершаемое и Боромиром, и Ришельё, и Сильвером отнюдь не абсолютно, а в большей мере вынужденно, и зачастую оборачивается или могло бы обернуться добром? Может быть, потому что они вовсе не лишены добра напрочь, а лишь прячут его под личиной зла? А может, и потому что зло и добро в полном равновесии держат само бытие, находясь на его противоположных сторонах?
Вряд ли ответ на этот, вполне философский и, как всё в философии, неразрешимый вопрос, может быть однозначным и окончательным. И большая настоящая литература, понимая невозможность его разрешения, лишь вновь и вновь ставит его во главу угла, тем, собственно, и отличаясь от чисто развлекательной беллетристики, где враги - это непременно безликие мерзавцы.
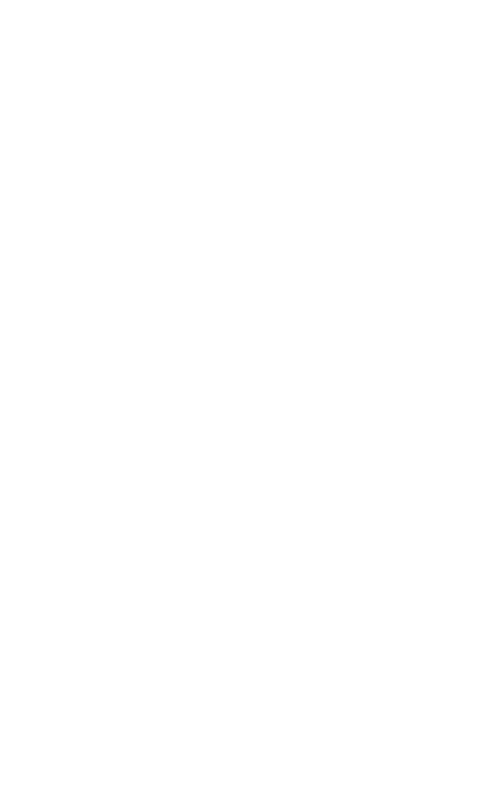
The Innovators:
How a Group of Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution
А мы, друзья, на чьей стороне - Джима Хокинса или Джона Сильвера? Неужели? Даже если роль Сильвера играют Олег Борисов или Борис Андреев? А ведь Сильвер на протяжении небольшой повести несколько раз спасает Джима Хокинса от верной смерти? Только ли потому, что выстраивает вокруг мальчишки свои хитроумные планы?
Однако «Остров сокровищ» интересен не только этим противостоянием, в котором, если вдуматься, обе стороны преследуют, в сущности, хищнические цели, причем неправая сторона на флинтовы сокровища имеет, пожалуй, больше прав, нежели правая, ведь изначально добывались они именно пиратскими потом и кровью. Ну, разумеется, в самом-самом начале золотые слитки, алмазы и прочие бранзулетки принадлежали не пиратам, но вряд ли и честным гражданам, в поте лица, как мы с вами и сам Стивенсон, зарабатывающими на кусок хлеба. И почему тогда разбогатеть должны именно Хокинс, доктор Ливси или и без того не бедный Трелони, а не одноногий кабатчик с попугаем на плече?
Если внимательно, не увлекаясь фабулой, перечитать книжку, у нас, несомненно, возникнут и другие подобные вопросы. А кроме того, вероятно, у юного читателя возникнет и желание узнать побольше о пиратах, островах и океанах, сокровищах и прочих вещах, интересных, но малознакомых.
Так вот, лучшим на начальном этапе подсказчиком может оказаться для вас издание «Острова сокровищ», осуществленное совсем недавно издательством «Лабиринт Пресс». Я, поверьте, вовсе не из рекламных соображений, очень рекомендую для первого знакомства с книгой Стивенсона именно это издание, фантастически изобретательное, сочетающее множество роскошных цветных иллюстраций к классическому переводу Николая Чуковского, массу типографских секретов и секреток, наподобие сундука Билли Бонса, портретной галереи второстепенных персонажей книги в потайном издательском кармане, оригинальной карты острова, или подробного изображения старинных парусников в разрезе, а также руководства по завязыванию разного рода морских узлов. Отыщите этот великолепный альбом или, если есть возможность, купите для детей - право, не пожалеете и часами будете разглядывать его в окружении всей семьи, а потом читать и перечитывать, ибо «Остров сокровищ» однолинеен лишь в плохих экранизациях или при поверхностном чтении. Копните глубже - и вам откроются истинные сокровища настоящей литературы, где не только добро бывает с кулаками, но и зло - со слезами на впалых морщинистых щеках.
Однако «Остров сокровищ» интересен не только этим противостоянием, в котором, если вдуматься, обе стороны преследуют, в сущности, хищнические цели, причем неправая сторона на флинтовы сокровища имеет, пожалуй, больше прав, нежели правая, ведь изначально добывались они именно пиратскими потом и кровью. Ну, разумеется, в самом-самом начале золотые слитки, алмазы и прочие бранзулетки принадлежали не пиратам, но вряд ли и честным гражданам, в поте лица, как мы с вами и сам Стивенсон, зарабатывающими на кусок хлеба. И почему тогда разбогатеть должны именно Хокинс, доктор Ливси или и без того не бедный Трелони, а не одноногий кабатчик с попугаем на плече?
Если внимательно, не увлекаясь фабулой, перечитать книжку, у нас, несомненно, возникнут и другие подобные вопросы. А кроме того, вероятно, у юного читателя возникнет и желание узнать побольше о пиратах, островах и океанах, сокровищах и прочих вещах, интересных, но малознакомых.
Так вот, лучшим на начальном этапе подсказчиком может оказаться для вас издание «Острова сокровищ», осуществленное совсем недавно издательством «Лабиринт Пресс». Я, поверьте, вовсе не из рекламных соображений, очень рекомендую для первого знакомства с книгой Стивенсона именно это издание, фантастически изобретательное, сочетающее множество роскошных цветных иллюстраций к классическому переводу Николая Чуковского, массу типографских секретов и секреток, наподобие сундука Билли Бонса, портретной галереи второстепенных персонажей книги в потайном издательском кармане, оригинальной карты острова, или подробного изображения старинных парусников в разрезе, а также руководства по завязыванию разного рода морских узлов. Отыщите этот великолепный альбом или, если есть возможность, купите для детей - право, не пожалеете и часами будете разглядывать его в окружении всей семьи, а потом читать и перечитывать, ибо «Остров сокровищ» однолинеен лишь в плохих экранизациях или при поверхностном чтении. Копните глубже - и вам откроются истинные сокровища настоящей литературы, где не только добро бывает с кулаками, но и зло - со слезами на впалых морщинистых щеках.
«Остров сокровищ» изначально предназначался автором вниманию подростков, иначе говоря, открывал собой подростковую и юношескую литературу, которой до Стивенсона толком не существовало нигде и никогда.
Может, именно поэтому в повести не определен возраст главного героя, поступки же его свидетельствуют то о том, что перед нами мальчик лет 12-ти, то о том, что перед нами подросток, находящийся на пороге юности. То же самое, забегая вперед, можно сказать и о целом ряде других произведений классика: даже наиболее тонко проработанные психологические характеристики их героев без труда воспринимаются юным читателем, более того, именно у него вызывают и сочувствие и полное приятие. Иными словами, книги Стивенсона, в отличие от книг многих его предшественников, не перешли в разряд детского чтения с течением лет, а изначально предназначались именно детям и подросткам.
Может, именно поэтому в повести не определен возраст главного героя, поступки же его свидетельствуют то о том, что перед нами мальчик лет 12-ти, то о том, что перед нами подросток, находящийся на пороге юности. То же самое, забегая вперед, можно сказать и о целом ряде других произведений классика: даже наиболее тонко проработанные психологические характеристики их героев без труда воспринимаются юным читателем, более того, именно у него вызывают и сочувствие и полное приятие. Иными словами, книги Стивенсона, в отличие от книг многих его предшественников, не перешли в разряд детского чтения с течением лет, а изначально предназначались именно детям и подросткам.
КНИГИ о ПИРАТАХ
Кстати, о пиратах, коль уж зашла о них речь, и помимо «Острова сокровищ» существует множество художественных и познавательных книг.
Наиболее значительные и доступные из них: двухтомный труд современного автора Жоржа Блона «Великий час океанов», биографии знаменитых пиратов Фрэнсиса Дрейка и Генри Моргана, написанные для серии «ЖЗЛ» В. Губаревым, и, конечно, старые классические книги Александра Эксквемелина «Пираты Америки» и Даниеля Дефо «Всеобщая история пиратства», сделанные, что называется, по горячим следам (причем Эксквемелин и сам был невольным участником пиратских «трудов и дней»), которые верой и правдой послужили основными источниками для Стивенсона, когда он работал над «Островом сокровищ».
Наиболее значительные и доступные из них: двухтомный труд современного автора Жоржа Блона «Великий час океанов», биографии знаменитых пиратов Фрэнсиса Дрейка и Генри Моргана, написанные для серии «ЖЗЛ» В. Губаревым, и, конечно, старые классические книги Александра Эксквемелина «Пираты Америки» и Даниеля Дефо «Всеобщая история пиратства», сделанные, что называется, по горячим следам (причем Эксквемелин и сам был невольным участником пиратских «трудов и дней»), которые верой и правдой послужили основными источниками для Стивенсона, когда он работал над «Островом сокровищ».
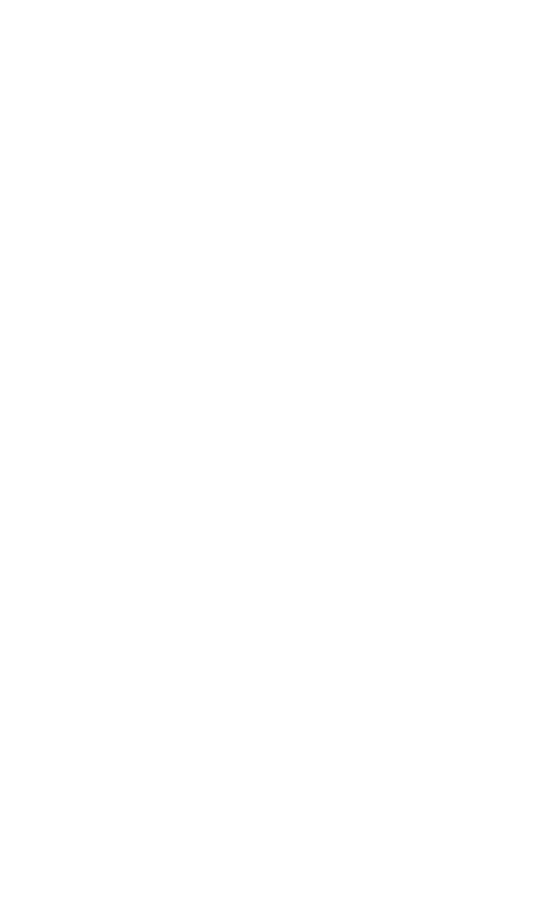
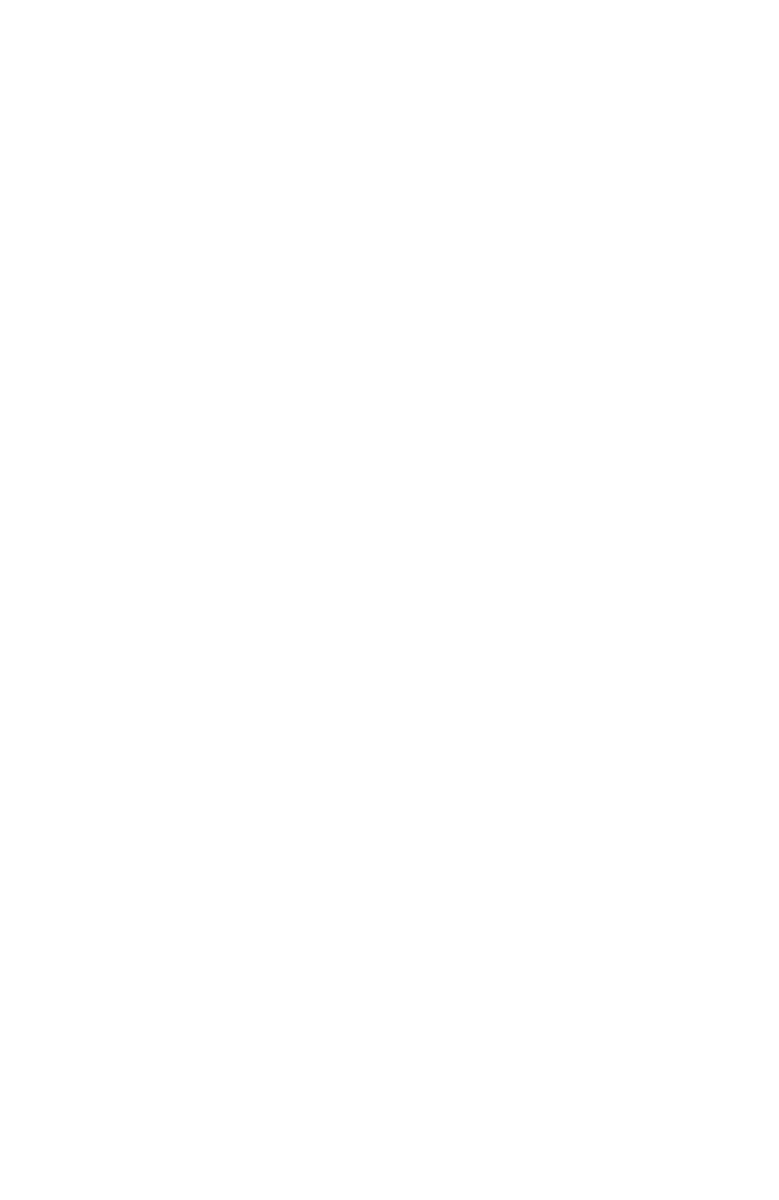
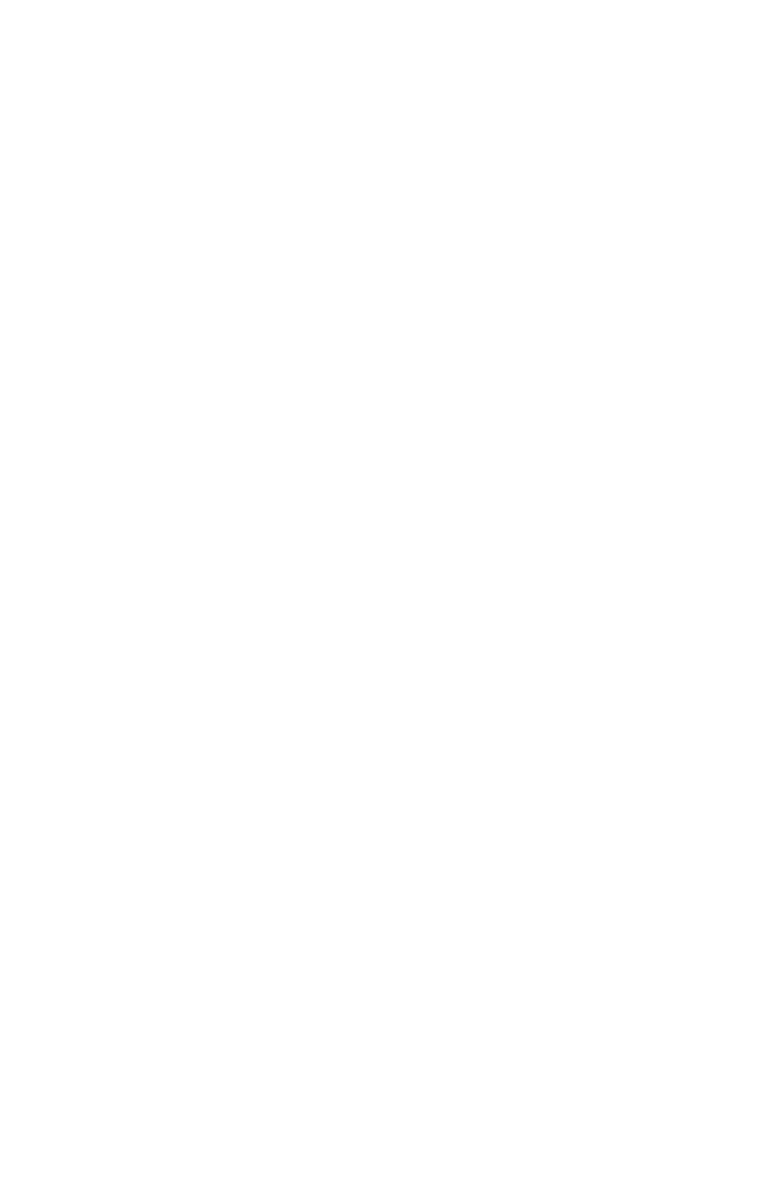
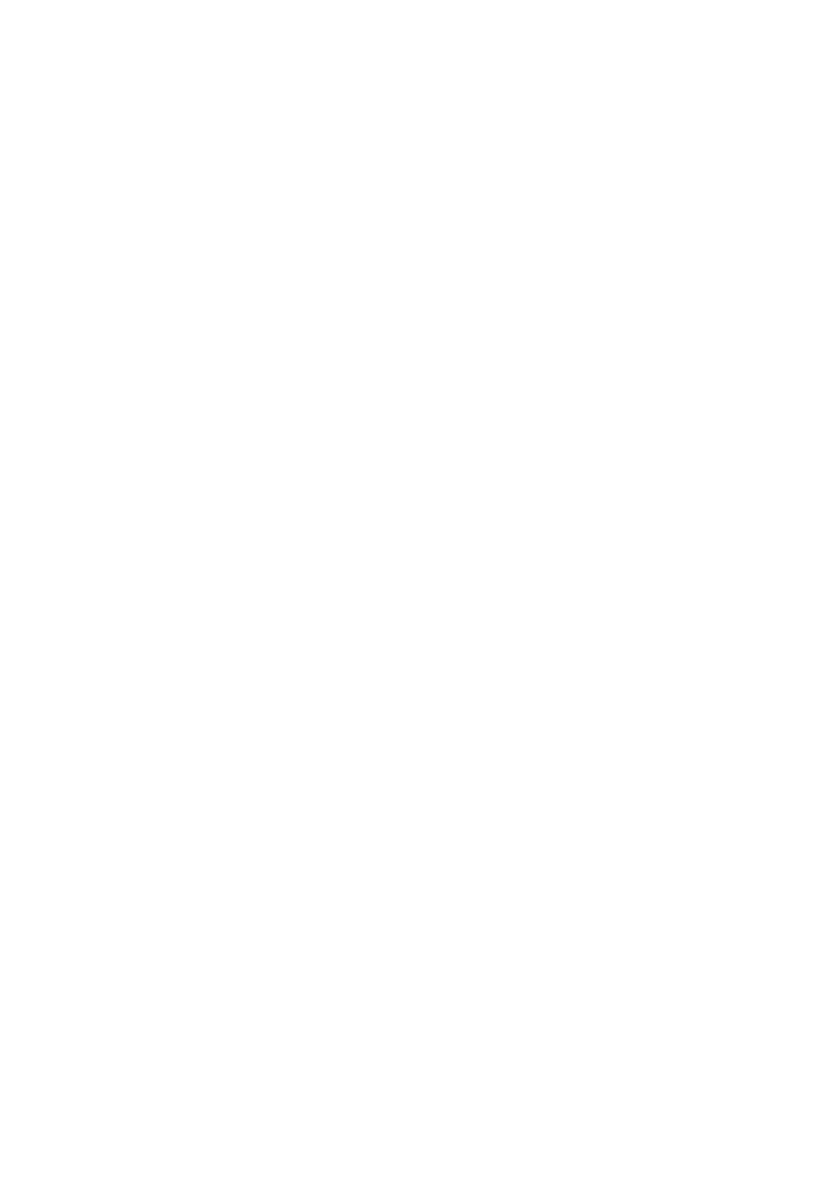

МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
О добре и зле, об их пределах, о перетекании одного в другое, а, следовательно, и о том, что не бывает в мире человеческом ни абсолютного зла, ни абсолютного добра, Стивенсон рассказывает во всех своих книгах, за исключением, пожалуй, самой первой, еще не fiction. «Путешествие внутрь страны» - это и мемуар, и травелог, и что-то вроде застольных бесед в одном флаконе - небольшая невыдуманная книжка о путешествии на байдарке по рекам, текущим по французской, бельгийской и голландской землям, осуществленном молодым Стивенсоном вдвоем с приятелем.
Книжка эта, легкая, остроумная, рассказывающая обо всем свете, но пуще всего о самом Стивенсоне в молодости, то есть о его восприятии окружающей жизни — людях, ландшафте, архитектуре, погоде и пр., не то чтобы малоизвестная, а скорее, редко читающаяся любителями приключений. И совершенно напрасно, так как, помимо того что написана талантливо и увлекательно, она еще положила начало большому и плодотворному направлению поздневикторианской литературы, наиболее значительным автором которой стал Джером Клапка Джером, автор классической юмористической повести — тоже и травелога и застольной болтовни, только вполне художественной, — «Трое в лодке, не считая собаки».
Собственно же к выдуманной литературе, то есть к той, что мы, не совсем, в общем, верно, называем художественной, молодой Стивенсон подступил сначала рассказами, а затем небольшими повестями. Самый ранний из его историко-приключенческих рассказов называется «Ночлег Франсуа Вийона», и, прямо скажу, приключений там никаких нет, а есть лишь одно убийство и мрачный колорит, на котором, как бы при резко контрастном свете факела в туманной зимней ночи, ярко высвечена фигура величайшего поэта позднего французского средневековья, а по совместительству убийцы и вора Франсуа Вийона. Вот уж воистину фигура, содержащая в себе в неразрывном сплетении и добро и зло! Ведь, в сущности, пьяница, гуляка, головорез — а какой поэт! Только послушайте: сидит он в тюрьме, ждет смертной казни и пишет углем на стене:
Я — Франсуа, чем не рад.
Увы, ждет смерть злодея,
И сколько весит этот зад
Узнает скоро шея.
(Перевод И. Эренбурга)
Вот и попробуйте разобраться, где здесь зло, где добро, и восхищаться нам с вами гениальными стихами и мужеством этого сорви-головы, или негодовать, как негодовали окружающие его самодовольные буржуа и почтенные дворяне…
С одним из последних и встречается Вийон зловещей ночью, беседуя за стаканом вина именно о пределах добра и зла, после чего навсегда уходит в ночную тьму, ничего не доказав сильному мира сего и не согласившись ни с одним из аргументов, предъявленных ему старым аристократом. То же самое, в сущности, происходит и сегодня, когда о пределах добра и зла рассуждаем мы сами на кухнях и площадях, в средствах массовой информации или художественных произведениях. Каждый волен выбрать любую из этих сторон бытия и искать сокровища капитана Флинта, зарытые… Где? Скорее всего, в глубинах нашего собственного сознания.
На чью сторону встать? Что выбрать? Как жить? Странствуя по морям и океанам или от юности до старости возделывая собственный крохотный садик, как герой рассказа «Вилли с мельницы», в чем-то похожий на гончаровского Илью Ильича Обломова. Нет, Вилли отнюдь не ленив, но решиться на отчаянный шаг, вырваться из привычного обжитого мирка не способен, даже если шаг этот приведет его в объятия любимой девушки. А коль скоро ты не герой и на решительный шаг к трудному счастью не способен, этот самый шаг сделает к тебе дьявол, или мистер Смерть, нет-нет, не сейчас — когда-нибудь, через многие годы, и заберет тебя из твоего обжитого домика и обустроенного садика, лишив смысла и эту обжитость, и эту обустроенность, и самоё твое существование, в котором, может, и не было ни добра, ни зла, вообще ничего было, тогда как много лет назад стоило всего лишь один раз шагнуть. «Вилли с мельницы» — даже не рассказ, а подлинная притча, философская и лирическая, по-моему, истинный шедевр, завершающий ранний этап творчества великого бунтаря.
Собственно же к выдуманной литературе, то есть к той, что мы, не совсем, в общем, верно, называем художественной, молодой Стивенсон подступил сначала рассказами, а затем небольшими повестями. Самый ранний из его историко-приключенческих рассказов называется «Ночлег Франсуа Вийона», и, прямо скажу, приключений там никаких нет, а есть лишь одно убийство и мрачный колорит, на котором, как бы при резко контрастном свете факела в туманной зимней ночи, ярко высвечена фигура величайшего поэта позднего французского средневековья, а по совместительству убийцы и вора Франсуа Вийона. Вот уж воистину фигура, содержащая в себе в неразрывном сплетении и добро и зло! Ведь, в сущности, пьяница, гуляка, головорез — а какой поэт! Только послушайте: сидит он в тюрьме, ждет смертной казни и пишет углем на стене:
Я — Франсуа, чем не рад.
Увы, ждет смерть злодея,
И сколько весит этот зад
Узнает скоро шея.
(Перевод И. Эренбурга)
Вот и попробуйте разобраться, где здесь зло, где добро, и восхищаться нам с вами гениальными стихами и мужеством этого сорви-головы, или негодовать, как негодовали окружающие его самодовольные буржуа и почтенные дворяне…
С одним из последних и встречается Вийон зловещей ночью, беседуя за стаканом вина именно о пределах добра и зла, после чего навсегда уходит в ночную тьму, ничего не доказав сильному мира сего и не согласившись ни с одним из аргументов, предъявленных ему старым аристократом. То же самое, в сущности, происходит и сегодня, когда о пределах добра и зла рассуждаем мы сами на кухнях и площадях, в средствах массовой информации или художественных произведениях. Каждый волен выбрать любую из этих сторон бытия и искать сокровища капитана Флинта, зарытые… Где? Скорее всего, в глубинах нашего собственного сознания.
На чью сторону встать? Что выбрать? Как жить? Странствуя по морям и океанам или от юности до старости возделывая собственный крохотный садик, как герой рассказа «Вилли с мельницы», в чем-то похожий на гончаровского Илью Ильича Обломова. Нет, Вилли отнюдь не ленив, но решиться на отчаянный шаг, вырваться из привычного обжитого мирка не способен, даже если шаг этот приведет его в объятия любимой девушки. А коль скоро ты не герой и на решительный шаг к трудному счастью не способен, этот самый шаг сделает к тебе дьявол, или мистер Смерть, нет-нет, не сейчас — когда-нибудь, через многие годы, и заберет тебя из твоего обжитого домика и обустроенного садика, лишив смысла и эту обжитость, и эту обустроенность, и самоё твое существование, в котором, может, и не было ни добра, ни зла, вообще ничего было, тогда как много лет назад стоило всего лишь один раз шагнуть. «Вилли с мельницы» — даже не рассказ, а подлинная притча, философская и лирическая, по-моему, истинный шедевр, завершающий ранний этап творчества великого бунтаря.
ДЕТЕКТИВ и МИСТИКА
Далее последовал двухчастный сборник рассказов «Новые тысяча и одна ночь», к книгам арабских сказок отсылающий, правда, лишь названием. В трех новеллах первой части «Клуб самоубийц» перед нами конан-дойлевские детективы в чистом виде. Написанные лет за десять до первой повести о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне «Этюд в багровых тонах», они, таким образом, прокладывают дорогу величайшему детективщику, хотя, как справедливо пишут и Олдингтон, и Урнов, Конан Дойл изготовил бы из стивенсоновских ингредиентов куда более вкусное блюдо. Но зачем здесь сослагательное наклонение? Конан Дойл его именно что изготовил. Достаточно перечитать лучшие «шерлокхолмсовские» рассказы, чтобы отчетливо увидеть: изготовлены они именно из стивенсоновских ингредиентов, как сам величайший детектив, а заодно и его напарник поневоле Ватсон кое в чем сильно схожи с богемским принцем Флоризелем. Может, на это намекает и сам Конан Дойл в рассказе «Скандал в Богемии»?..
Четыре новеллы второй части «Алмаз Раджи» - тоже детектив, пародирующий популярный роман Уилки Коллинза «Лунный камень». Это удачная попытка переписать 500-страничную, довольно-таки затянутую криминальную историю драгоценного камня, уложив ее в четыре ироничных рассказа общим объемом примерно в 60 страниц. «Лунный камень» до сих пор считается классикой жанра, только вот вряд ли его теперь усиленно читают, а новеллы Стивенсона благодаря иронии молодого мастера живы по сей день. Все эти семь рассказов, объединенных одним героем, богемским принцем Флоризелем, были экранизированы отечественным телевидением в 70-е годы. Главную роль сыграл Олег Даль, и сорок лет назад телефильм смотрелся очень недурно. Увы, кино стареет гораздо быстрее книг…
Кстати сказать, «Клуб самоубийц» Стивенсона тоже, скорее всего, пародирует какие-то криминальные истории викторианской эпохи. Это вполне чувствуется при чтении новелл, однако конкретные объекты иронии писателя мне неизвестны.
Прочитав в переводе на французский роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», Стивенсон пишет собственный мрачноватый, пограничный с ужастиком, но тоже ироничный отклик - рассказ «Маркхейм», вполне качественный, однако с оригиналом соперничества не выдерживающий. Тем не менее, знаменателен сам факт интереса молодого шотландского беллетриста к одному из лучших романов русского писателя, задолго до того, как к Достоевскому пришла мировая слава.
От иронических детективов в поисках наиболее интересного для себя жанра Стивенсон переходит сначала к мрачным приключенческим историям, лучшие среди которых - небольшие повести «Веселые Молодцы» и «Дом на дюнах». Обе вещи - истории любви, в которых про любовь, собственно, почти и не говорится. Вообще говоря, за исключением позднего романа «Катриона», женские образы Стивенсону то ли не удавались, то ли просто не были интересны.
В «Веселых Молодцах» герой-студент во время каникул возвращается из города на дикий шотландский берег, где живет его пожилой родственник с юной дочерью. Герой и девушка знакомы с детства и друг другу симпатизируют. И это всё, что об их любви говорится, поскольку история вовсе не о них, а об отце девушки, недурном человеке, которого губят бесы пьянства, жадности и кромешного одиночества - как бы проекции тех самых Веселых Молодцов, что уничтожают всякий корабль, пытающийся пристать к дикому мысу, где прозябают персонажи повести. А Веселыми Молодцами называются скалы, окружающие мыс, кажется, адски веселящиеся, когда крепчает ветер и налетает шторм. Эпизод, в котором описывается такая буря, думается, один из сильнейших в жанровой литературе. Ну а Веселые Молодцы здесь, несомненно, самые главные герои - пожалуй, первые демоны стивенсоновских миров.
Однако самые страшные демоны сидят все-таки внутри человека. О них рассказывает одна из лучших вещей Стивенсона - повесть «Дом на дюнах», тоже, на первый взгляд, о любви, а на самом деле - о соперничестве двух мужчин, отшельников и едва ли не мизантропов. Цель и смысл их жизни - именно соперничество, девушка же, в которую они вроде бы влюблены, скорее приз, нежели цель жизни. Так, по крайней мере, для одного из демонов. Другой, рассказчик, как вы понимаете, не может быть законченным эгоцентриком, иначе кто же будет читать его рассказ… Впрочем, не все столь уж однозначно - Стивенсон умел читать в человеческих душах, иначе не был бы писателем. Каждый из соперников, даже худший, обладает все же неким тщательно скрытым благородством. И может быть, редчайшие его проблески - и есть самый главный приз для читателя, а вовсе не хэппи-энд, без которого приключенческая история обойтись не может, просто по законам жанра.
Внутренние человеческие демоны населяют и другие рассказы Стивенсона, в жанровом плане весьма разнообразные. Так, «Окаянная Дженет» - на поверхности рассказ на излюбленную британцами тему о ведьмах и привидениях. На деле же это история о демонах религиозной нетерпимости, обуревающих наши мещанские душонки.
Продолжая перебирать четки жанров и тем, Стивенсон пишет блестящий, можно сказать, образцовый «ужасный» рассказ «Олалла» - не то о вампирах, не то о сумасшедших, ставший источником, из которого через полтора-два десятка лет выльется знаменитый роман Брэма Стокера «Дракула» - тоже ведь, если вдуматься, книга о наших внутренних демонах. Если будете читать «Олаллу», обратите внимание на то, как много общего между главными героями Стивенсона и Стокера, и подивитесь, насколько писательский дар нашего героя ярче, ведь он сумел уложить всю проблематику стокеровского романа всего лишь в двадцать страниц.
Наиболее популярной и в ХХ веке особенно востребованной кинематографом вещью Стивенсона стала повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». По жанру это психологический триллер, одновременно фантастический и реалистический, поскольку само происшествие, описываемое в ней - чистая фантастика, а весь антураж строго реалистичен. За фантастикой скрывается психология, точнее психиатрия, ведь, если отбросить сказочный элемент истории, в искомом итоге останется «шизофрения, как и было сказано» (у Булгакова в «Мастере и Маргарите»). Герой повести благодаря собственному научному изобретению способен менять не только внешнее обличье, но и внутреннюю суть, периодически превращаясь из уважаемого врача в жуткого монстра, чуть ли не в Джека-потрошителя, терроризирующего окрестности. Только подумать, сколько книг и сколько персонажей мировой беллетристики породил этот скромный по объему стивенсоновский родничок. Тут вам и Уэллс, с его «Человеком-невидимкой», и легион серийных убийц - несть числа им самим и их сочинителям, и даже булгаковский Шариков из «Собачьего сердца» - тоже ведь прямой потомок Джекила-Хайда.
Известно: литературу порождает литература. Оценим теперь, как много в этом плане сделал Роберт Луис Стивенсон, написавший, в общем, не так уж большое количество книг, и я думаю, далеко не только потому, что был неизлечимо болен, прожил короткую трудную жизнь путешественника через силу, то есть вопреки слабости тела, но благодаря силе духа и таланта. А прежде всего потому, что в поте лица работал над каждым своим произведением.
«Странная история…», можно сказать, завершает поиски жанра, и Стивенсон возвращается к тому, что счастливо нашел, сочиняя «Остров сокровищ», то есть к жанру исторической авантюры, где приключения нон-стоп порождаются не столько капризами судьбы, сколько демонами, живущими внутри нас.
Опускаю в своем рассказе не впечатлившие меня романы «Черная стрела» и «Потерпевшие кораблекрушение», а также незаконченные автором по причине внезапной смерти романы «Сент-Ив» и «Уир Гермистон», последний из которых обещал стать лучшей вещью Стивенсона. Расскажу еще лишь о самой сильной из его крупных вещей, романе «Владетель Баллантрэ», а также о превосходной историко-приключенческой дилогии «Похищенный» и «Катриона».
Кстати сказать, «Клуб самоубийц» Стивенсона тоже, скорее всего, пародирует какие-то криминальные истории викторианской эпохи. Это вполне чувствуется при чтении новелл, однако конкретные объекты иронии писателя мне неизвестны.
Прочитав в переводе на французский роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», Стивенсон пишет собственный мрачноватый, пограничный с ужастиком, но тоже ироничный отклик - рассказ «Маркхейм», вполне качественный, однако с оригиналом соперничества не выдерживающий. Тем не менее, знаменателен сам факт интереса молодого шотландского беллетриста к одному из лучших романов русского писателя, задолго до того, как к Достоевскому пришла мировая слава.
От иронических детективов в поисках наиболее интересного для себя жанра Стивенсон переходит сначала к мрачным приключенческим историям, лучшие среди которых - небольшие повести «Веселые Молодцы» и «Дом на дюнах». Обе вещи - истории любви, в которых про любовь, собственно, почти и не говорится. Вообще говоря, за исключением позднего романа «Катриона», женские образы Стивенсону то ли не удавались, то ли просто не были интересны.
В «Веселых Молодцах» герой-студент во время каникул возвращается из города на дикий шотландский берег, где живет его пожилой родственник с юной дочерью. Герой и девушка знакомы с детства и друг другу симпатизируют. И это всё, что об их любви говорится, поскольку история вовсе не о них, а об отце девушки, недурном человеке, которого губят бесы пьянства, жадности и кромешного одиночества - как бы проекции тех самых Веселых Молодцов, что уничтожают всякий корабль, пытающийся пристать к дикому мысу, где прозябают персонажи повести. А Веселыми Молодцами называются скалы, окружающие мыс, кажется, адски веселящиеся, когда крепчает ветер и налетает шторм. Эпизод, в котором описывается такая буря, думается, один из сильнейших в жанровой литературе. Ну а Веселые Молодцы здесь, несомненно, самые главные герои - пожалуй, первые демоны стивенсоновских миров.
Однако самые страшные демоны сидят все-таки внутри человека. О них рассказывает одна из лучших вещей Стивенсона - повесть «Дом на дюнах», тоже, на первый взгляд, о любви, а на самом деле - о соперничестве двух мужчин, отшельников и едва ли не мизантропов. Цель и смысл их жизни - именно соперничество, девушка же, в которую они вроде бы влюблены, скорее приз, нежели цель жизни. Так, по крайней мере, для одного из демонов. Другой, рассказчик, как вы понимаете, не может быть законченным эгоцентриком, иначе кто же будет читать его рассказ… Впрочем, не все столь уж однозначно - Стивенсон умел читать в человеческих душах, иначе не был бы писателем. Каждый из соперников, даже худший, обладает все же неким тщательно скрытым благородством. И может быть, редчайшие его проблески - и есть самый главный приз для читателя, а вовсе не хэппи-энд, без которого приключенческая история обойтись не может, просто по законам жанра.
Внутренние человеческие демоны населяют и другие рассказы Стивенсона, в жанровом плане весьма разнообразные. Так, «Окаянная Дженет» - на поверхности рассказ на излюбленную британцами тему о ведьмах и привидениях. На деле же это история о демонах религиозной нетерпимости, обуревающих наши мещанские душонки.
Продолжая перебирать четки жанров и тем, Стивенсон пишет блестящий, можно сказать, образцовый «ужасный» рассказ «Олалла» - не то о вампирах, не то о сумасшедших, ставший источником, из которого через полтора-два десятка лет выльется знаменитый роман Брэма Стокера «Дракула» - тоже ведь, если вдуматься, книга о наших внутренних демонах. Если будете читать «Олаллу», обратите внимание на то, как много общего между главными героями Стивенсона и Стокера, и подивитесь, насколько писательский дар нашего героя ярче, ведь он сумел уложить всю проблематику стокеровского романа всего лишь в двадцать страниц.
Наиболее популярной и в ХХ веке особенно востребованной кинематографом вещью Стивенсона стала повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». По жанру это психологический триллер, одновременно фантастический и реалистический, поскольку само происшествие, описываемое в ней - чистая фантастика, а весь антураж строго реалистичен. За фантастикой скрывается психология, точнее психиатрия, ведь, если отбросить сказочный элемент истории, в искомом итоге останется «шизофрения, как и было сказано» (у Булгакова в «Мастере и Маргарите»). Герой повести благодаря собственному научному изобретению способен менять не только внешнее обличье, но и внутреннюю суть, периодически превращаясь из уважаемого врача в жуткого монстра, чуть ли не в Джека-потрошителя, терроризирующего окрестности. Только подумать, сколько книг и сколько персонажей мировой беллетристики породил этот скромный по объему стивенсоновский родничок. Тут вам и Уэллс, с его «Человеком-невидимкой», и легион серийных убийц - несть числа им самим и их сочинителям, и даже булгаковский Шариков из «Собачьего сердца» - тоже ведь прямой потомок Джекила-Хайда.
Известно: литературу порождает литература. Оценим теперь, как много в этом плане сделал Роберт Луис Стивенсон, написавший, в общем, не так уж большое количество книг, и я думаю, далеко не только потому, что был неизлечимо болен, прожил короткую трудную жизнь путешественника через силу, то есть вопреки слабости тела, но благодаря силе духа и таланта. А прежде всего потому, что в поте лица работал над каждым своим произведением.
«Странная история…», можно сказать, завершает поиски жанра, и Стивенсон возвращается к тому, что счастливо нашел, сочиняя «Остров сокровищ», то есть к жанру исторической авантюры, где приключения нон-стоп порождаются не столько капризами судьбы, сколько демонами, живущими внутри нас.
Опускаю в своем рассказе не впечатлившие меня романы «Черная стрела» и «Потерпевшие кораблекрушение», а также незаконченные автором по причине внезапной смерти романы «Сент-Ив» и «Уир Гермистон», последний из которых обещал стать лучшей вещью Стивенсона. Расскажу еще лишь о самой сильной из его крупных вещей, романе «Владетель Баллантрэ», а также о превосходной историко-приключенческой дилогии «Похищенный» и «Катриона».
ПОЭЗИЯ
Но прежде хотя бы бегло упомяну о том, что замечательный новеллист и романист Роберт Луис Стивенсон был и отменным публицистом. С этой его творческой ипостасью можно познакомиться, обратившись к последнему тому пятитомника.
Там же вы найдете его избранные стихотворения и две баллады, ибо, помимо прочих талантов, Роберт Луис был еще и хорошим поэтом. Свидетельством тому давно и прочно популярная в нашей стране, отменно переведенная Самуилом Маршаком баллада «Вересковый мед». Помимо нее составители включили в собрание сочинений балладу «Рождество в море» в несколько тяжеловесном переводе Андрея Сергеева и стихотворения из двух сборников, среди которых наиболее интересными мне показались лирические миниатюры из книжки «Детский цветник стихов».
Там же вы найдете его избранные стихотворения и две баллады, ибо, помимо прочих талантов, Роберт Луис был еще и хорошим поэтом. Свидетельством тому давно и прочно популярная в нашей стране, отменно переведенная Самуилом Маршаком баллада «Вересковый мед». Помимо нее составители включили в собрание сочинений балладу «Рождество в море» в несколько тяжеловесном переводе Андрея Сергеева и стихотворения из двух сборников, среди которых наиболее интересными мне показались лирические миниатюры из книжки «Детский цветник стихов».
